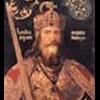Зигзаги процесса
О том, какие нормы ГПК РФ стали предметом недавней проверки на соответствие Конституции РФ и почему применение гражданского процессуального законодательства вызывает многочисленные вопросы со стороны не только граждан, но и судов, рассказывает судья Конституционного Суда РФ, заслуженный юрист РФ Людмила Михайловна ЖАРКОВА.
В конце февраля КС РФ проверил на конституционность положения ст. 392 ГПК РФ (Постановление от 26.02.2010 № 4-П). Однако еще в Определении от 15.11.2007 № 757-О-О КС РФ указал, что норма ч. 2 ст. 392 ГПК РФ не препятствует пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в силу судебных актов в связи с принятием постановления ЕСПЧ. Отсутствие в Кодексе прямого указания на такое основание для пересмотра, как решение страсбургских коллег, суды смущать не должно.
— Людмила Михайловна, почему же суды тем не менее продолжали считать перечень оснований для пересмотра исчерпывающим и по сути игнорировать решения из Страсбурга?
— Необходимо отметить, что жалобы заявительницы Е.Ю. Федотовой рассматривались Конституционным Судом РФ дважды. В первом случае, в названном Вами Определении от 15.11.2007 об отказе в принятии ее жалобы к рассмотрению, не было достаточных оснований разрешать вопросы по существу конституционности ст. 392 ГПК РФ, поскольку фактические обстоятельства, характер выявленного ЕСПЧ нарушения (незаконный состав суда) позволяли заявительнице обратиться с жалобой о пересмотре судебного решения в порядке надзора.
При этом КС РФ лишь в общем плане отметил, что сама по себе ст. 392 ГПК РФ не может рассматриваться как препятствующая пересмотру судебного акта в целях исправления судебной ошибки в связи с принятием ЕСПЧ решения по жалобе гражданина.
Заявительнице не удалось воспользоваться защитой своих интересов в порядке надзора, так как срок на подачу надзорной жалобы не был восстановлен, и в новом обращении в КС РФ она поставила вопрос шире — о проверке конституционности всего раздела IV («Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений») ГПК РФ, непосредственно не предусматривающего ни в ст. 392, ни в других статьях механизма пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений, если ЕСПЧ установлено нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом общей юрисдикции конкретного дела, по которому вынесено решение, послужившее поводом для обращения в ЕСПЧ.
Эта жалоба, объединенная в одно дело с двумя другими, находилась в КС РФ в режиме ожидания открытого судебного слушания в течение года, что было известно федеральному законодателю и правоприменителям. Чем можно объяснить существовавшее в практике судов общей юрисдикции толкование ч. 2 ст. 392 ГПК РФ как препятствующей рассмотрению соответствующих обращений граждан, добивающихся исполнения решений ЕСПЧ?
По моему мнению, причина в том, что судьи подходили к этому вопросу сугубо с позитивистских позиций, уверенные в императивности данной нормы, — в смысле исчерпывающего перечня вновь открывшихся обстоятельств.
Не использовались такие «возможности» восполнения определенного пробела, как применение норм международного права, имеющего приоритет перед внутренним законом, ст. 15 и 17 Конституции РФ, аналогии закона и аналогии права, а именно: ч. 4 ст. 1 ГПК РФ во взаимосвязи с п. 7 ст. 311 АПК РФ и п. 5 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ.
Исходя из ст. 2, 15, 17, 18, 45 и 46 Конституции РФ КС РФ разъяснил, что поскольку права и свободы человека и гражданина, признанные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, — это те же по своему существу права и свободы, что закреплены в Конституции РФ, подтверждение их нарушения соответственно ЕСПЧ и КС РФ — в силу общей природы правового статуса этих органов и их предназначения — предполагает возможность использования в целях полного восстановления нарушенных прав единого институционального механизма исполнения принимаемых ими решений, в частности в случае отсутствия непосредственно в ГПК РФ такого основания для пересмотра дела, как выявление КС РФ конституционно-правового смысла нормы, который ранее в процессе правоприменения ей не придавался.
Подобная ситуация не может служить поводом для отказа в пересмотре судебных постановлений по тем делам, при разрешении которых были допущены нарушения конституционных прав и свобод, выявленные высшей судебной инстанцией, не входящей в систему судов общей юрисдикции или арбитражных судов, а именно КС РФ, в силу его компетенции, вытекающей из ст. 46 и 125 Конституции РФ и Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Иное приводило бы к невозможности исполнения решения КС РФ и потому лишало бы смысла обращение заявителей в КС РФ, делая иллюзорным предоставленный гражданам и их объединениям способ защиты своих прав с помощью конституционного правосудия.
Приведенные правовые позиции КС РФ, имеющие общее значение, исходя из конституционных гарантий судебной защиты прав и свобод, применимы и в отношении исполнения постановлений ЕСПЧ. Отрицание соответствующих процессуальных возможностей для лиц, по делам которых судами общей юрисдикции были допущены нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выявленные ЕСПЧ и аналогичные нарушениям конституционных прав, означало бы существенное ограничение права на судебную защиту, противоречило бы конституционным принципам равенства, приоритета международных договоров Российской Федерации в ее правовой системе, а также конституционным целям гражданского судопроизводства, исключая, в свою очередь, признание его судебных процедур эффективным средством правовой защиты нарушенных прав.
— КС РФ в провозглашенном 26 февраля Постановлении № 4-П признал, что ч. 2 ст. 392 ГПК РФ не позволяет суду отказывать гражданину в пересмотре вынесенного по его делу решения в связи с принятием постановления ЕСПЧ. Однако далее говорится, что все фактически отдается на откуп суду: именно он решает вопрос о возможности пересмотра. Получается, что гражданин, который дошел до Страсбурга, не получает стопроцентной гарантии того, что суд пересмотрит его дело. То есть принятие постановления ЕСПЧ не является безусловным основанием для пересмотра?
— ЕСПЧ не пересматривает решения национальных судов, не оценивает конституционность примененных законов, не указывает на способы восстановления нарушенного права. Им устанавливается нарушение Конвенции и определяются выплаты компенсационного характера за причиненный вред, материальный и моральный.
Национальные власти во исполнение решения ЕСПЧ должны определить и осуществить комплекс мер — решения и (или) действия как индивидуального, так и общего характера.
При этом нужно четко понимать, что автоматический пересмотр дела исключается. Решение суда по каждому такому ходатайству должно быть, как и любое другое, законным и обоснованным.
Возможность удовлетворения обращения о пересмотре будет зависеть от того, какое именно нарушение Конвенции выявлено ЕСПЧ.
На основании практики Комитета министров Совета Европы по контролю за исполнением решений ЕСПЧ выделяются основные условия, при которых пересмотр вступившего в законную силу судебного акта становится необходимостью. Это существенные (фундаментальные) нарушения прав и свобод, повлекшие серьезные последствия для заявителя, которые могут быть устранены при новом рассмотрении дела.
Соответственно решение вопроса по существу — о возможности пересмотра вступившего в законную силу судебного постановления — суд должен принимать исходя из оценки всех доводов заявителя и фактических обстоятельств конкретного дела. В настоящее время в силу Постановления КС РФ суды общей юрисдикции во всяком случае не могут отказать в пересмотре вступившего в законную силу решения, ссылаясь на то, что ГПК РФ не предусматривает такого основания, как вердикт ЕСПЧ.
— И в уголовном, и в арбитражном процессах решение ЕСПЧ является основанием для пересмотра вступившего в силу судебного акта. Теперь КС РФ обязал законодателя внести подобную норму в ГПК РФ. Попытки дополнить ст. 392 ГПК РФ соответствующими поправками уже предпринимались, однако успехом они, как видим, не увенчались. Людмила Михайловна, чем, на Ваш взгляд, можно объяснить нежелание принять такие поправки?
— Причины исключения из законопроекта, представленного Верховным Судом РФ федеральному законодателю, дополнения ч. 2 ст. 392 ГПК РФ, аналогичного норме, содержащейся в п. 7 ст. 311 АПК РФ, КС РФ установить при рассмотрении дела так и не удалось.
Возможно, возникли разногласия относительно правомерности отнесения решения ЕСПЧ к перечню оснований пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам в отличие от уголовно-процессуального регулирования, согласно которому установленное ЕСПЧ нарушение положений Конвенции при рассмотрении судом РФ уголовного дела считается новым обстоятельством (ч. 4 ст. 413 УПК РФ). Высказывались опасения, что соответствующее дополнение ст. 392 ГПК РФ повлечет пересмотр всех дел, в том числе решений по семейным и трудовым спорам, и это «раскачает национальную систему правосудия».
В декабре 2008 г. Государственная Дума ФС РФ проинформировала КС РФ о том, что нет никаких препятствий для внесения изменения в ст. 392 ГПК РФ, однако до настоящего времени, а прошло уже более двух месяцев со дня провозглашения Постановления, законодатель к данному вопросу так и не обратился.
И в этом контексте вынуждена повториться — пересмотр решений по заявлениям лиц, определенные нарушения конвенционных прав в отношении которых установлены постановлением ЕСПЧ, такой законодательный процесс блокировать не может.
Вместе с тем законодательное закрепление механизма исполнения окончательных решений ЕСПЧ в ГПК РФ необходимо в качестве меры общего характера, является конституционной обязанностью федерального законодателя и должно быть осуществлено в течение шести месяцев после вынесения КС РФ данного решения.
— ГПК РФ однозначно можно назвать рекордсменом по числу жалоб на его нормы, которые проверялись КС РФ на соответствие Основному закону с начала 2010 г. Это просто совпадение или «болевая точка» судебной системы и несовершенство гражданского процесса?
— О совпадении в настоящее время говорить не приходится.
Если арбитражное законодательство изменяется весьма оперативно (хотя и нормы АПК РФ нередко становятся предметом проверки КС РФ), гражданское процессуальное законодательство подвергается обновлению довольно непоследовательно, что вызывает многочисленные правомерные обращения в КС РФ граждан и запросы судов, зачастую повторные, по поводу ранее проверявшегося КС РФ регулирования.
Так, 19.03.2010 в Постановлении № 7-П по жалобам граждан КС РФ признана не соответствующей Конституции РФ ч. 2 ст. 397 ГПК РФ в той мере, в какой она препятствует обжалованию в кассационном (апелляционном) порядке определений судов первой инстанции об удовлетворении заявлений о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
И в этом решении КС РФ установил рассогласованность проверяемого законоположения с предписаниями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, с процессуальными гарантиями защиты прав граждан, предоставляемыми в арбитражном судопроизводстве, с решениями КС РФ и ЕСПЧ.
КС РФ указал, что введение федеральным законодателем пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в качестве способа их проверки направлено на предоставление дополнительных процессуальных гарантий лицам, участвующим в деле, что не устраняет необходимости распространения на эту процедуру общего правила о соблюдении баланса конституционно значимых ценностей. С учетом особых последствий, которые порождает в таких случаях для лиц, участвующих в деле, отмена вступившего в законную силу судебного постановления, в процессуальном законодательстве должны предусматриваться адекватные средства защиты от необоснованной отмены судебных постановлений в данной процедуре и возможность исправления судебной ошибки, допущенной при ее применении.
Конституционный Суд РФ 21 апреля вновь вынес решение по нормам ГПК РФ. Статьи 320, 327 и 328, регламентирующие механизм апелляционного обжалования решений мировых судей и полномочия суда апелляционной инстанции, признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они не предоставляют лицам, о правах и обязанностях которых мировой судья принял решение без привлечения указанных лиц к участию в деле, право апелляционного обжалования данного судебного решения, а также не предусматривают правомочие суда апелляционной инстанции направлять гражданское дело мировому судье на новое рассмотрение в тех случаях, когда мировой судья рассмотрел дело в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания, или разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.
Системное толкование перечисленных норм не исключало возможности выявления их конституционно-правового смысла, однако по этому делу КС РФ пришел к выводу о неконституционности, учитывая в том числе:
— необходимость установления КС РФ конкретного механизма восстановления нарушенных прав — впредь до внесения федеральным законодателем в гражданское процессуальное законодательство соответствующих изменений;
— нереализованность предыдущих постановлений КС РФ о судебной защите прав лиц, не привлеченных к участию в деле, вопрос о правах и обязанностях которых разрешен судом первой инстанции (прежде всего Постановления от 20.02.2006 № 1-П по ст. 336 ГПК РФ, которым проблема обжалования во вторую инстанцию такими лицами решения суда первой инстанции была разрешена применительно к процедуре кассационного обжалования).
Для прекращения действия порочного аспекта этих норм и побуждения федерального законодателя к незамедлительному и адекватному их исправлению итоговое решение принято о неконституционности.
И в заключение хочу отметить, что проблема неисполнения решений судов, вынесенных в пользу граждан, в том числе итоговых постановлений ЕСПЧ, в Российской Федерации остается очень острой.
Безусловно, денежные компенсации в возмещение вреда, причиненного нарушениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, важны для граждан, но не менее важно устранение самих нарушений, а также их предупреждение. И в этой связи требуется эффективная деятельность всей судебной системы, в которой совершенствование, назревшее реформирование гражданского судопроизводства имеют особую значимость. Ведь защита и восстановление нарушенных прав граждан обеспечиваются прежде всего судами общей юрисдикции.
Также во исполнение конституционного принципа согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти необходима модернизация системы не только исполнительного производства, но и «производственного» исполнения государством собственных функций по защите прав и свобод граждан, которая обеспечит соблюдение принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, выполнение обязательств государства, вытекающих из участия Российской Федерации в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Из Европейского суда
С просьбой прокомментировать Постановление КС РФ от 26.02.2010 № 4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой» редакция «эж-ЮРИСТ» обратилась к судье Европейского суда по правам человека от России Анатолию Ивановичу КОВЛЕРУ.
Для начала зададимся вопросом: а всегда ли возможен пересмотр гражданского дела, скажем, 10-летней давности, если сроки хранения таких дел в архивах ограничены? И всегда ли заявители Страсбургского суда согласны с пересмотром их дела на местах?
Само по себе Постановление КС РФ от 26.02.2010 своевременное, ибо только ГПК РФ зиял лакуной относительно последствий постановлений КС РФ или ЕСПЧ в отличие от УПК РФ (ст. 413) и АПК РФ (ст. 311). Надеюсь, на сей раз законодатель оперативно отреагирует на Постановление.
Что касается «стопроцентной гарантии» того, что национальный суд пересмотрит дело после постановления ЕСПЧ, вынужден разочаровать вас: ЕСПЧ не является «четвертой инстанцией» по отношению к национальным судам и не может давать им указание пересмотреть конкретное дело. ЕСПЧ задумывался как субсидиарное средство правовой защиты и таковым остается и по сей день.
Другое дело, что Суд может отметить, что в национальном праве существует средство исправления нарушения, в частности пересмотр дела. Мы так делаем по уголовным и арбитражным делам, ссылаясь соответственно на ст. 413 УПК РФ и ст. 311 АПК РФ. Уже есть примеры пересмотра судебных решений по уголовным делам. Если соответствующая запись будет внесена в ст. 392 ГПК РФ, мы также будем указывать на эту возможность в своих постановлениях. Но прежде надо дождаться появления подобной нормы.
***
Интервью провела Оксана Бодрягина,
«эж-ЮРИСТ»
18.05.2010
http://www.gazeta-yu...icle.php?i=1184
Сообщение отредактировал Aidar: 22 May 2010 - 15:40