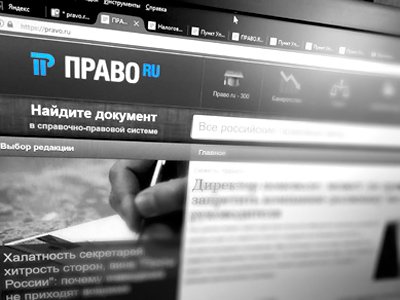zakon.ru
«Если остаешься в корпорации, ты не вправе хулить все адвокатское сословие» // Интервью Генри Резника
Купить — 800e
32-46 минут
Адвокаты — люди свободной профессии, для них нельзя устанавливать ограничения такие же, как для госслужащих или должностных лиц. У адвокатов есть свой Кодекс этики и именно адвокаты должны решать, как его применять. Поэтому только адвокатское сообщество может судить компетентно, в том числе о суровости наказания за конкретное нарушение. В то же время не исключена пристрастность, негативное отношение к адвокату со стороны руководства палаты. Однако неправильно было бы утверждать, что все сообщество прогнило и вообще не защищает адвокатов, и при этом самому оставаться в адвокатуре. В своем интервью журналу «Закон» первый вице-президент адвокатской палаты Москвы Генри РЕЗНИК рассуждает об адвокатуре, о современном российском уголовном законодательстве и о росте популярности Сталина.
— Генри Маркович, в этом году в России состоялись два больших оппозиционных митинга, во время которых было много задержанных. В Санкт-Петербурге абсолютное большинство административных дел завершилось не в их пользу. Говорит ли это о том, что, несмотря на все усилия нашего законодателя, принимаемых мер по обеспечению процессуальных гарантий в административном процессе недостаточно?
— Я здесь не вижу никаких усилий нашего законодателя. Хотя его интерес, действительно, сместился с уголовного законодательства на административное. Смотрите сами: если оставить в стороне скороиспеченные, конъюнктурные акты вроде закона об ответственности за реабилитацию нацизма, которые не рассчитаны на широкое применение, то можно сказать, что наше современное уголовное законодательство и правоприменение не очень репрессивны. Меньше 30% осужденных приговариваются к реальному лишению свободы. Мне есть с чем сравнивать: я помню советские времена, когда к реальному лишению свободы приговаривались порядка 60%. Правда, если оценивать репрессивность уголовного закона не по статистике, а в контексте репрессивности судебной практики по избранию мер пресечения, то вывод будет противоположный.
Но вернемся к административному законодательству. На мой взгляд, репрессивность правоприменения сместилась именно сюда, причем сместилась точечно — к нарушениям порядка проведения и участия в митингах, демонстрациях и т.д. Взять хотя бы меры, предусмотренные ст. 20.2 КоАП РФ за организацию несанкционированных (хотя правильно говорить «несогласованных») митингов: там размер штрафа начинается с 10 тыс. руб. Для хорошо зарабатывающего адвоката это копейки, но для среднестатистического гражданина России это довольно значимая сумма, тем более что в отношении организаторов штраф намного выше и, как правило, к организаторам также применяется административный арест.
— Чем вызвана такая строгость?
— Мне кажется (и мое мнение отчасти подтверждается Постановлением КС РФ по делу Ильдара Дадина), абсолютно дефектным формулированием данной статьи и еще ст. 212.1 УК РФ, применяемой в случае повторности такого нарушения, в которых не проводится никакого разграничения между опасностью причинения вреда и реальным причинением вреда.
Надо понимать, что право граждан на свободу выражения мнения, которое включает в себя свободу митингов и демонстраций, — это несущая опора демократического государства.
Поэтому следует разграничивать ситуацию, когда действительно наносится вред, например применяется насилие по отношению к полицейским, и простую мирную демонстрацию, которая в целом направлена на реализацию права граждан. Да, вероятно, к ней можно предъявить какие-то формальные претензии (допустим, то, что митингующие выходят не на оговоренное место), но в данном случае ограничения должны быть минимальны. Тем более что и нарушения зачастую связаны с тем, что власть ведет себя, скажем прямо, неправомерно и немудро, словно она охвачена какой-то фобией. Такое впечатление, что ставится задача вообще зачистить улицу.
В этой ситуации, конечно, у оппозиции, которая устраивает несанкционированные митинги, демонстрации, есть своя правота. Люди не хотят, чтобы их отодвигали куда-то на задворки, и это провоцирует их на ответные действия. И что происходит дальше? Давайте посмотрим ту же ст. 20.2 КоАП РФ: она, в принципе, не проводит большого различия между ответственностью организаторов и рядовых участников. И для первых, и для вторых штрафы начинаются от 10 тыс. руб., первым могут присудить до 30 тыс., а вторым до 20 — вот и вся несущественная разница. Административный арест — до 15 суток для участников и до 30 — для организаторов. Кстати, срок ареста привлекает особое внимание европейцев к этим нормам, потому что если у нас, вероятно исторически, лишение свободы принято измерять годами, то у них свобода и достоинство личности ценятся значительно выше, и для них задержание на 15 суток — очень серьезная санкция. Соответственно, ЕСПЧ в своих решениях говорит нам, что эти административные правонарушения по сути своей и по европейским стандартам являются уголовными, поэтому необходимо установить соответствующие процессуальные стандарты. В частности, по двум делам были удовлетворены жалобы на то, что бесплатный защитник не был предоставлен тем, кто не могли сами оплатить работу адвоката.
— Вы считаете, что двух названных санкций недостаточно?
— Да, ведь в Кодексе есть и такое наказание, как предупреждение. По каким составам оно применяется? Это и нарушение требований охраны труда, и уклонение работодателя от участия в переговорах и заключения трудового договора, и необоснованный отказ работодателя в заключении коллективного договора или соглашения, и неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, плюс целый набор правонарушений в сферах сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации, т.е. это экологические нарушения, которые могут повлечь опасность для многих людей. И при всем том за них предусмотрены предупреждение и низкие штрафы — от 500 до 3000 руб. Как вам такой диссонанс? Когда за серьезные правонарушения, посягающие на конституционные права граждан, законодатель считает достаточной санкцией предупреждение, а за участие в несогласованной демонстрации (причем ее нельзя считать несанкционированной, потому что запретить ее не имеют права законодательно, могут только предложить другое место или другое время) — сразу назначает административный арест?
Дальше получается так: применяются две нормы, первая — это участие в несанкционированном мероприятии, а вторая — неподчинение работникам полиции, которое надо доказывать. И вот представим себе ситуацию: шествие идет, людям говорят: «Прекратите». Но что значит «прекратите»? Люди идут, как они могут сразу выполнить это требование? Они в другую сторону должны пойти? Они не имеют представления о том, как им следует организоваться. По этой причине вторая норма совершенно не подходит.
— Но ведь можно поправить все в суде. Доказать, что требование было невыполнимым.
— Судебная практика по таким делам абсолютно безумна, потому что здесь нарушается принцип оценки доказательств, заключающийся в оценке только по внутреннему убеждению и отсутствии права наделять какие-либо доказательства заранее установленной силой. А здесь с чем мы сталкиваемся? Рапорт, который пишет сотрудник полиции, фактически обладает заранее установленной силой, и опровергнуть это в судах практически невозможно. Мы с правозащитниками как раз недавно обобщали два случая, когда Тверским судом были вынесены оправдательные постановления по административным делам, потому что оказалось, что люди вообще не были причастны к несогласованному шествию. Их схватили, а они просто находились в этом месте, без участия. Но в большинстве случаев опровергнуть это абсолютно невозможно. Как правило, суды не принимают никаких доказательств со стороны защиты, в первую очередь видеозаписи, либо принимают, но сразу же отвергают их, говорят, например, так: «Чем можете доказать, что вы это снимали в тот отрезок времени, когда было шествие?» И всё. На этот счет есть опять же решения ЕСПЧ по делам Каспарова и Немцова.
— Презумпция невиновности подразумевает правило in dubio pro reo, т.е. любые сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого, а при таком подходе это правило игнорируется.
— Совершенно верно. Вместо этого мы видим презумпцию достоверности, и в таком случае мало того что обязанность доказывания перекладывается на нарушителя, так еще и в полной мере проявляется репрессивность: в конструкции норм, в суровости санкций. Я полагаю, что это очень непродуманная и недальновидная политика, которая к тому же абсолютно не учитывает психологию молодых людей, выходящих на такие акции. Там много тех, кто выходит впервые, им интересно, они это воспринимают как своего рода флешмоб. И когда к ним применяются такие строгие санкции, невольно на ум приходят народники, которые выходили в народ с утопическими идеями об устранении невежества масс, стремились нести знания крестьянству, а затем власть своими преследованиями перековала их мирные намерения в терроризм.
— В связи с этим возникает интересный вопрос в сфере уголовной политики. Ведь в каких-то случаях государство может предусматривать серьезные санкции без видимых общественно опасных последствий. Вспомним нашумевшую ст. 282 УК РФ о запрете экстремизма.
— Я здесь занимаю нерадикальную, промежуточную позицию. Та же самая ст. 282 УК РФ сформулирована, как мне представляется, излишне широко. Но похожая норма, примерно в такой же редакции, есть практически во всех странах Европы. Запрет возбуждения межнациональной, религиозной или расовой вражды или ненависти основан на запрете расизма и национальной нетерпимости в международной Конвенции. И в этом случае (как, кстати, и в случае с митингами) сталкиваются две ценности: с одной стороны, свобода выражения мнений (свобода демонстраций), а с другой — ограничение этой свободы в целях защиты других ценностей, таких как национальная безопасность, общественный порядок, защита нравственности молодежи, репутации граждан и других лиц. Как неоднократно указывал ЕСПЧ, такие ограничения должны толковаться в узком ключе, поскольку в противном случае они способны практически уничтожить свободу или очень сильно ее урезать.
Наша антиэкстремистская ст. 282 УК РФ, конечно, требует филигранного правоприменения. Это во-первых. А во-вторых, саму норму нужно улучшать, прежде всего убрав из нее возбуждение вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе. Ответственность за разжигание межнациональной, религиозной, расовой ненависти — это понятно. Но откуда вдруг там появилась социальная группа, что это такое? А это, оказывается, власть. И еще одна социальная группа — полицейские.
— А адвокаты могут быть социальной группой?
— Разумеется. Социальные группы — это ведь очень широкое понятие.
Идем дальше. Возьмем возбуждение ненависти по признакам пола. Помните, шел кинофильм «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»? Получается, при желании можно привлечь по этой статье его авторов — он ведь пропитан феминизмом, который в крайних его проявлениях можно интерпретировать как призывы к ликвидации мужиков. Но это просто несерьезно.
Поэтому первое, что нужно сделать, — это убрать из диспозиции ст. 282 УК половые и социальные группы, и второе — сузить, как мне представляется, содержание понятия наказуемых действий, которое должно подразумевать только призывы к насилию и пропаганду ограничения прав в зависимости от расы и национальности, потому что это посягает на конституционные права.
Вообще, эти нормы невечны. Когда-нибудь изменится ситуация, и тогда, возможно, эту норму можно будет убрать, но не сейчас. Вероятно, я был одним из первых, кто сказал о необходимости ввести запрет на распространение экстремистской литературы. Это было нужно для того, чтобы обеспечить правовую определенность. Некоторые тексты, которые безусловно должны признаваться экстремистскими, разжигающими ненависть, нужно удалять.
Возьмем Mein Kampf. Что значит разрешить эту книгу? Это для начала значит разрешить ее рекламировать. Вы представляете себе рекламу Mein Kampf? Я уже ее вижу: книга, которая перевернула мир и определила ход истории в XX столетии. Как Вы считаете, можно такого рода тексты открыто выпускать?
— Вы говорили, что эта норма требует не только корректировки, но и филигранного применения. Что Вы имели в виду?
— Для привлечения к уголовной ответственности надо устанавливать прямой умысел, доказывать, что человек не просто что-то где-то сказал, а действительно преследовал цель разжечь ненависть. Это очень сложно доказывать. Антон Носик, которого уже нет с нами, безусловно одаренный человек, испытал это на себе. Пост, за который его судили, был полон, прямо надо сказать, резких призывов к уничтожению Сирии. Но он написал это с изрядной долей иронии, использовал этот прием для того, чтобы отстоять свою точку зрения на абсолютно ничем не стесняемую свободу выражения мнения. И это был явный эпатаж. Заведомость, умысел очень трудно доказуемы, в то время как добиться сатисфакции в рамках гражданского судопроизводства намного легче. Можно же опубликовать опровержение, возместить моральный вред и т.д.
— Здесь возникает вопрос на стыке уголовного и гражданского права — когда кто-то кого-то обвиняет в преступлении. Говорит, например: ты взяточник. Достаточно ли потерпевшему доказать, что если нет приговора, то, значит, он не взяточник?
— Нет, конечно. Это я могу вам сказать с полной ответственностью, поскольку это предмет моих профессиональных научных интересов. В изданной в соавторстве с Константином Ильичом Скловским книге я как раз комментирую ст. 152 ГК РФ и касаюсь этих вопросов.
Это очень сложные дела. Надо отграничивать оценочные суждения от так называемых фактологических. Сделать это можно так: оценочные суждения укладываются в схему «хорошо — плохо». Оценки вообще не защищаются гражданским правом. А фактологические суждения, т.е. утверждения (или заявления) о фактах, строятся по схеме «было — не было», и их можно проверить на соответствие действительности. Конечно, было бы хорошо, если бы не существовали оценочные суждения с фактической ссылкой. Например, когда говорят, что кто-то — человек некомпетентный.
Можно сказать: некомпетентный депутат. Но пойти с этим заявлением в суд нельзя, потому что неясно, что такое «компетентный депутат» и уж тем более — «некомпетентный депутат». В суде сторона защиты скажет: считаю его некомпетентным, потому что он состоит в таком-то комитете, а этот комитет фактически ничего не делает. И вообще, он уже третий созыв в Думе, а до сих пор ни одного законопроекта не предложил. И нет критериев, которые позволили бы соотнести это заявление с действительностью. А ведь по такого рода делам требуется признать, что суждение порочит человека и не соответствует действительности.
Я уже 6 лет читаю в ЕСПЧ лекции по ст. 10 Конвенции о свободе выражения мнений, причем читаю их не только нашим юристам, но и итальянцам, французам. И редко когда решение семерки судей ЕСПЧ по делу о защите свободы выражения мнений принимается единогласно, соотношения 7:0 практически нет. Наиболее часто — 5:2, но не единожды бывает и 4:3.
— А как Вы относитесь к утверждению о том, что у публичной фигуры порог чувствительности к критике должен быть выше, потому что она публичная? Верховный Суд это признает.
— В данном отношении позиция Верховного Суда заслуживает самых позитивных оценок. Правда, я тоже немножко причастен к формированию такого подхода. У Верховного Суда есть очень хорошие постановления — 2005 г., которое как раз ввело разграничение оценочных суждений и суждений о фактах, и 2010 г. по спорам с участием СМИ. Действительно, публичная фигура должна быть более терпима к критике. Но это вовсе не означает, что о ней можно распространять ложные сведения. Хотя если рассматривать штрафные санкции за такое нарушение, то, конечно, публичная фигура не может рассчитывать на получение приличных денег, в отличие от рядового гражданина.
У нас есть понятие порочащих честь и достоинство сведений, причем сведения — это фактологическое суждение, не оценочное. И есть оскорбление — понятие оценочное. Лет 20 назад в ЕСПЧ рассматривалось интересное дело об оскорблении — дело австрийского журналиста Обершлика. Он назвал австрийского политика Хайдера идиотом, и австрийский национальный суд его за это осудил. Журналист обратился в ЕСПЧ, который признал решение национального суда нарушением ст. 10 Европейской конвенции и указал, что слова журналиста не являются личным и неуместным выпадом, это лишь реакция на провокационную речь политика о том, что все солдаты Второй мировой войны, независимо от занимаемой ими стороны, сражались за мир и свободу. То есть, по мнению ЕСПЧ, Хайдера назвали идиотом не абстрактно, не вообще как личность, а в результате того, что он совершил идиотский поступок, который и дал журналисту право сказать, что он идиот. Видите, какая чувствительная сфера. Грань между допустимым и недопустимым очень тонкая.
— Но в таком случае мы рискуем просто избавиться от ответственности за оскорбление.
— ЕСПЧ указал, что надо выяснять, насколько эти слова связаны с конкретным действием. То есть выяснять, было ли сказано о человеке, что он вор или мошенник, локально, применительно к какой-то ситуации, или абстрактно, вообще. Здесь важно учитывать не только значение слова по словарю, но и контекст его употребления.
Возьмем дело Александра Руцкого в бытность его губернатором Курской области. Журналист назвал его ненормальным на основании того, что губернатор по итогам финансовой проверки исполнения бюджета и выявления нарушений рекомендовал помягче описать выявленные недостатки. Журналист утверждал, что если бы губернатор был нормальным, то он бы отреагировал на нарушения по-другому. В итоге российский суд журналист проиграл, но ЕСПЧ полностью встал на его сторону.
Можно еще много неоднозначно разрешенных дел вспомнить: дело судьи Кудешкиной, которая подвергла критике нашу судебную систему, дело калининградского журналиста Чернышевой, которая опорочила честь и достоинство прокурора. Правда, в деле Чернышевой ЕСПЧ признал правоту России и указал, что она как журналист поступила некорректно: одни факты исказила, о других умолчала, а на самом деле оснований для того, чтобы высказывать негативные оценки в отношении прокурора, не было.
— Не опасаетесь, что это может использоваться как некая дисциплинарная квазиответственность в борьбе против инакомыслия, например, в том же адвокатском сообществе?
— Опасения, конечно, есть. Я в своих выступлениях не раз прямо указывал на то, что здесь существует угроза зажима критики. Но ведь можно согласиться и с теми аргументами, которые высказываются в пользу защиты авторитета корпорации или правосудия.
В ст. 10 Европейской конвенции обозначены ценности, в пользу которых может быть ограничена свобода выражения мнений, — это интересы национальной безопасности, общественной нравственности, репутации граждан и иных лиц и авторитет правосудия. Здесь как раз уместно вспомнить еще одно дело Обершлика в ЕСПЧ , в котором судьи, опять же неединогласно, решили, что высказывать суждение, в целом порочащее систему правосудия, недопустимо. Суд выделен из числа других государственных учреждений, что явствует из норм Закона о статусе судей и Кодекса судейской этики. Судья не должен порочить эту репутацию.
Адвокатура же — институт гражданского общества. Адвокаты — люди свободной профессии, и для них нельзя формулировать ограничения, которые уместны для государственных служащих и должностных лиц. Об этом, например, свидетельствуют изменения нашего законодательства: вначале, когда приняли Закон об адвокатуре, в нем по аналогии с Законом об основах государственной службы было написано, что адвокат не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме творческой, преподавательской и научной. Но дело в том, что есть конституционная норма о свободе предпринимательства и экономической деятельности (ст. 34 Конституции) и о том, что эта свобода может быть ограничена только в пользу других интересов, которые закреплены федеральным законом. Представим ситуацию: адвокат заработал деньги. Он что, не вправе открыть какое-нибудь коммерческое предприятие, например ресторан или детективное агентство?
Так что в 2004 г. эта норма была поправлена: теперь адвокат, так же как и раньше, не вправе работать по найму, но в Кодексе профессиональной этики адвоката снято абсолютное ограничение на занятие предпринимательством, т.е. адвокат не вправе лично им заниматься, но он может быть, например, владельцем ресторана. Аргументация была такая: адвокатская деятельность должна быть основной для адвоката. Владеть бизнесом, быть акционером, входить в совет директоров — пожалуйста, условие одно: адвокат не должен непосредственно оказывать услуги, производить товары.
Правда, сейчас мы сняли и это ограничение. Дело в том, что в большинстве регионов адвокаты не могут заработать себе на жизнь адвокатской практикой: там нет никакого бизнеса, которому можно было бы помогать, есть только бедное, неплатежеспособное население. И в ряде регионов мы вынуждены закрывать глаза на то, что адвокаты организовывают артели, например, по валке леса или выращиванию скота.
— Но одновременно ввели, если я правильно понял, правило о том, что решение по дисциплинарным вопросам нельзя обжаловать по существу.
— Да, но этот вопрос возникал еще в дореволюционной адвокатуре. Как это формулировалось? Если ты остаешься в корпорации и кормишься своей профессией, ты не вправе хулить адвокатское сословие в целом. Подчеркну: не критиковать одного члена совета, а говорить, например, что вообще вся адвокатура безграмотна, коррумпирована, зависима от государства и т.д.
Я не буду скрывать, что толчок к изменению существующего положения дал адвокат Игорь Трунов. Он спровоцировал ответные реакции со стороны адвокатуры, заявив, что органы московской областной палаты срослись с правоохранительными органами и не защищают адвокатов. Это абсолютная ложь.
Конечно, адвокатура несовершенна, о чем говорить, есть у нас и карманные адвокаты, с которыми мы боремся. И кроме того, мы совершенствуем порядок привлечения адвокатов к защите по назначению. Да, какая-то, но явно не преобладающая часть адвокатов осуществляют защиту по назначению так, будто отбывают повинность. Но все равно, я могу вспомнить из дисциплинарной практики только единичные случаи, когда адвокаты предавали интересы клиентов и уговаривали их признать вину.
Хочу подчеркнуть: я абсолютно не исключаю, что кто-то из президентов региональных палат сможет использовать эти ограничения для зажима критики. И я, выступая на Всероссийском съезде адвокатов, сказал, что Федеральная палата адвокатов будет остро реагировать на подобные нарушения. Но когда идет огульная критика, что все сообщество прогнило и вообще не защищает адвокатов, при этом человек остается в адвокатуре и не уходит, это вызывает недоумение.
— Получается, критиковать адвокатуру в целом нельзя, а какие-то конкретные действия адвокатов можно? А как быть с запретом критиковать позицию своего коллеги по конкретному делу?
— Это немножко другой вопрос. Все-таки публично адвокат не должен подвергать критике другого адвоката.
— Критике в общем или применительно к конкретному делу?
— Нельзя высказывать негативное суждение о другом адвокате. Мы дали такое разъяснение, что адвокат не должен комментировать дела, в которых не принимает участия, за исключением случаев, если получено согласие коллег или очевиден произвол. Например, я за все время прокомментировал только одно дело — Pussy Riot, потому что там произвол был очевиден: была использована норма, которой не было в УК.
— Получается, что нельзя критиковать адвокатуру, нельзя комментировать позицию адвокатов по другому делу, но в целом адвокат может критиковать другого?
— Ни в коем случае. Вы представляете, что будет, если судья начнет критически высказываться о работе другого судьи по делу, в котором он, первый судья, не участвовал? И в адвокатуре то же самое. Это правило всегда было, и оно записано в Кодексе этики. Нельзя критиковать адвоката, когда к тебе приходит его клиент, а у тебя складывается другая позиция по делу.
— А если адвокат по назначению откровенно пренебрегает клиентом?
— У клиента есть право обращения в адвокатскую палату, возбуждается дисциплинарное производство. И если будет доказано, что адвокат не защищал клиента, он будет исключен из сообщества.
— Нет ли здесь противоречия? Если люди не позаботились об адвокате в своем уголовном деле, вряд ли они озадачатся и тем, чтобы привлечь плохого адвоката к ответственности.
— В Кодексе этики адвоката для таких случаев предусмотрена процедура, по которой дисциплинарное производство может быть возбуждено по представлению суда или территориального органа юстиции. Но отношения адвоката и подзащитного охраняются профессиональной тайной.
Если сам доверитель не предъявляет претензии, их никто не может предъявлять. Это азбука.
— И все-таки, почему решение совета палаты, вынесенное в дисциплинарном производстве, можно оспорить только по процедурным основаниям, но нельзя по существу?
— Это спорный вопрос. Вначале я вообще не был сторонником ограничений, тем более что никаких общемировых стандартов, которые предписывали бы состав так называемых дисциплинарных комиссий, нет. Но у нас уникальный случай. Помимо адвокатов, в состав комиссии входят представители органов государственной власти на региональном уровне, в том числе и двое судей: судья городского суда (или областного, или краевого) и арбитражного суда. Входит и представитель Минюста. В итоге комиссия состоит из 13 человек и рассматривает жалобы и дает оценку фактической стороне: соответствуют ли факты, изложенные в жалобе, действительности и есть ли состав дисциплинарного правонарушения со стороны адвоката?
Совет палаты, рассматривая жалобу уже на втором этапе, может разойтись с квалификационной комиссией в правовой оценке, но он не вправе пересматривать факты, которые она установила. И вот вопрос: допустимо ли, чтобы при столь тщательной организации дисциплинарного производства районный судья в одиночку пересматривал факты, которые установлены в рамках такой процедуры? Совет ФПА посчитал, что нет, и я в данном случае принял их точку зрения.
Но вот чего я не могу принять, так это запрета обжаловать меру взыскания, я выступал и выступаю против него. И вот почему.
Адвокатура — это не общественная организация, а профессиональное сообщество.
И отлучая человека от профессии, мы, в общем, лишаем его работы. На этот счет есть позиция ЕСПЧ: дело Игоря Кабанова. Там ситуация была такая: адвокат в кассационной жалобе допустил ненормативную лексику. В палату пришло представление от суда, и палата прекратила статус этого адвоката. Он пошел в ЕСПЧ, который согласился с тем, что было дисциплинарное правонарушение, но указал, что за него установлена чрезмерная, самая суровая, санкция, которая впоследствии может создать охлаждающий, или замораживающий, эффект (выражение, введенное ЕСПЧ) и отвратить адвокатов от участия в сложных делах, высказывания смелой позиции и отстаивания интересов подзащитного. Так что я против такого запрета.
Но мои оппоненты тоже приводят достаточно сильные аргументы в пользу того, что решение совета о дисциплинарной ответственности вообще нельзя обжаловать. В частности, адвокаты могут считать какое-то нарушение нетерпимым и несопоставимым с адвокатским статусом, а судьи отнесутся к нему более лояльно. Но у нас же есть свои внутренние критерии и свой Кодекс профессиональной этики, поэтому именно мы, адвокаты, должны решать, как его применять. По этой причине только адвокатское сообщество может судить компетентно, в том числе о суровости наказания за конкретное нарушение.
В то же время не исключена пристрастность, негативное отношение к адвокату со стороны руководства палаты. Как видите, это сложный вопрос, и не стоит его упрощать.
— Такое обжалование не будет квалифицироваться как дисциплинарное правонарушение, ведь адвокат, по сути, критикует решение палаты?
— Нет. Легитимные действия в свою защиту не могут образовать никакого правонарушения.
— Как оценивать ситуацию, когда адвокат не говорит конкретно про адвокатуру, но говорит какие-то настолько вопиющие с точки зрения общепринятого мнения вещи, что одно только это способно опорочить сообщество?
— Это давний спор, вызванный тем, что юрисдикция палаты распространяется только на действия адвокатов, которые осуществляются при проведении адвокатской деятельности. Я всегда считал, что можно оценивать только поведение адвоката в пределах профессиональной деятельности и ни в коем случае нельзя вмешиваться в его частную жизнь. Но честно скажу: с учетом того, что появился Интернет, социальные сети, я свою позицию несколько смягчил.
В действиях, которые не имеют отношения к адвокатской деятельности, адвокат не должен себя позиционировать в качестве адвоката.
Простой пример: адвокат устроил дебош в ресторане, нецензурно выражался и буянил. Можно ли его привлечь к дисциплинарной ответственности? Нельзя. Это мелкое хулиганство. А вот если он при этом выхватил удостоверение, стал им размахивать и говорить: «Я адвокат, я всех вас прижму к ногтю!» — это уже совсем другое дело.
— А если какой-нибудь адвокат скажет, что он как адвокат точно знает, что во времена Сталина не было никаких репрессий и что Сталин не совершал никаких преступлений?
— А при чем здесь Сталин? Это историческая фигура. Давайте тогда еще глубже копнем, к Ивану Грозному. О чем вы говорите? Здесь действует абсолютная свобода выражения мнения по отношению к историческим фигурам. Никакие политические или идеологические высказывания адвоката не могут подпасть под юрисдикцию палаты.
— То есть адвокат может быть сталинистом?
— Он может быть кем угодно. Я понимаю, к чему Вы ведете. Мое мнение по поводу памятной доски Сталину в Университете имени О.Е. Кутафина — это совершенно индивидуальный акт — не адвоката Резника, а, если угодно, профессора университета.
Вообще, мемориальные доски и памятники устанавливают для того, чтобы увековечить исторические события или память человека, который прославился какими-то добрыми делами. Когда я узнал о том, что в МГЮА открыли памятную доску Сталину, я даже вначале засомневался: не шутка ли? В приемной ректора сказали: это исполнение Постановления Правительства 1960 г. Но я все-таки юрист. Я узнал — действительно, есть постановление, в котором периодически пересматриваются объекты, подлежащие государственной охране, причем в последний раз оно обновлялось в 2001 г. Единственным охраняемым объектом в Москве при принятии этого Постановления, связанным с именем Сталина, был Мавзолей Ленина — Сталина. После выноса оттуда его тела и захоронения у Кремлевской стены в 1961 г. даже его могила не была почти 15 лет поставлена под госохрану.
В 1970-е гг. при Брежневе началась ползучая реабилитация Сталина. И в 1974 г. этот актовый зал МГЮА, будучи внесенным в то самое постановление Правительства, так и не был включен в московский реестр охраняемых объектов. И за все время, после 1961 г., несмотря на попытки реабилитации, ни один памятник и ни одна доска Сталину не были восстановлены. Не были переименованы обратно населенные пункты: Сталинабад, Сталинград, Сталино и пр.
— О репрессиях 1937–1938 гг. в СССР хорошо известно. Но что менее известно — это то, что в 1938 г. прошло Первое всесоюзное совещание научных работников права, после которого некоторые выдающиеся ученые, например Борис Борисович Черепахин, были восстановлены в своих должностях. Как это соотносится с позицией о том, что Сталин — могильщик права?
— Вы говорите про восстановление в должностях ученых-правоведов, а ведь летом того же 1938 г. за одну ночь была арестована треть московских адвокатов, цвет московской адвокатуры. 150 человек, которые практически все сгинули в сталинских лагерях. В 1939 г. были арестованы Исаак Эммануилович Бабель и Всеволод Эмильевич Мейерхольд, академик Николай Иванович Вавилов так и не был выпущен.
— То есть Вы считаете, что ползучая реабилитация Сталина таит в себе опасность для нашей правовой системы?
— Да, и это естественно. По моему мнению, даже тот взгляд, что наше нынешнее государство является правопреемником Советского Союза, исключительно опасен. Потому что Конституция РФ, закрепленные в ней приоритеты, ценности, права человека — все это диаметрально противоположно тому, на чем была основана Советская империя: страху, лжи и репрессиям. Я не считаю нашего Президента сталинистом. Просто власти сейчас немного заигрались фигурой Сталина, потому что он популярен у определенного сегмента электората. Сталин — это персонифицированная форма общественной критики.
— Едва ли МГЮА работает на электорат.
— Может быть, они почувствовали веяние времени, тем более что это решение совпало с опросом, который назвал Сталина самой выдающейся фигурой всех времен и народов. Это все мифологизация прошлого, которого уже три поколения россиян не видели.
— Сейчас иногда приходится слышать, что мы в некотором смысле возвращаемся к советскому времени в адвокатской практике. Например, говорят, сейчас стали больше зарабатывать на уголовных делах, чем на гражданских. Вы согласны?
— Это трудно оценить. Мне кажется, что основной — стабильный и высокий — заработок дает бизнес-адвокатура, но только в тех регионах, где развит частный бизнес, т.е. в крупных городах. В уголовных делах адвокаты в основном участвуют по назначению. Ставки там совершенно мизерные. Восемь лет назад у нас с огромным трудом подняли оплату с 290 до 550 руб. за день в районном суде. Вот вам и расклад. У нас есть, конечно, какой-то слой адвокатской элиты, на представителей которой спрос превышает предложение. Это буквально несколько десятков человек, действительно хорошие профессионалы, чьи имена на слуху. В целом же прокормиться судебному адвокату сложно, его существование всегда зыбко.
Так что адвокаты вообще по стране живут очень тяжело. Если взять большинство регионов, где население неплатежеспособно, там заработок адвоката в месяц составляет 30–40 тыс. руб. и считается очень хорошим. И не случайно число адвокатов не то что не увеличивается, особенно в регионах, а даже уменьшается. Потому что в регионах уменьшается население.
— Возможно, тому есть еще одна причина: разочарование в профессии, когда адвокату сложно добиться справедливого результата в уголовном деле. В последнее время все чаще доводится слышать о пресловутом обвинительном уклоне в судах.
— Адвокату никогда не было легко в нашей судебной системе. Впрочем, не только в нашей: например, в США 90% дел и вовсе заканчиваются сделками, когда нет спора между обвинением и защитой. У нас 90% обвиняемых признают себя виновными. При этом в особом порядке разрешается чуть больше 60% дел, остальные обвиняемые признают себя виновными частично и ведут спор о квалификации, о количестве эпизодов и пр. Остается всего 10% дел, где есть спор между обвинением и защитой.
В мировых судах, где рассматриваются дела частного обвинения, например об оскорблении или причинении легкого вреда здоровью, треть приговоров оправдательные. Если участвует прокурор — 4%. В федеральных судах — 0,4%: столь низкий процент, что им можно пренебречь. Можно на этом основании констатировать, что есть обвинительный уклон, или нет? Возьмем для сравнения суды присяжных, в которых у нас сейчас рассматривается фактически одна категория дел — об убийстве с отягчающими обстоятельствами. Понятно, что по таким делам проводится особенно тщательное расследование. И что мы видим в судах присяжных? Я назову среднюю цифру — 15% оправдательных приговоров (когда-то было 13%, а в какие-то годы даже 22%).
Итак, что такое 10% случаев, в которых есть спор между обвинением и защитой и где подсудимый не признает себя виновным? В среднем у нас ежегодно на скамье подсудимых оказывается порядка 1 млн человек. Соответственно, 10% — это 100 тыс. Теперь распространим стандарт доказанности, который мы наблюдаем в суде присяжных, на дела, которые рассматривают профессиональные судьи. Сколько получится? 15% против реальных 0,4%. То есть если исходить из стандарта доказанности суда присяжных, а там работает презумпция невиновности, когда сомнения в обстоятельствах дела истолковывается в пользу обвиняемого, то окажется, что у нас порядка 15 тыс. человек вместо того, чтобы быть оправданными, ежегодно осуждаются без надежных достоверных доказательств их вины. 40% из них оказываются в местах лишения свободы. Что такое 15 тыс. человек? Это население небольшого города.
Сравним теперь наш процент оправдательных приговоров с американским. Там процент оправданий значительно выше — 20–25%. А ведь люди в целом везде одинаковые, и доказательства везде примерно одни и те же.
Получилось так, что мы с восторгом восприняли одну часть американского опыта — особый порядок. Но при этом не восприняли другую — присяжных.
Если есть спор между обвинением и защитой, обвиняемому должно быть обеспечено право на суд присяжных.
— Что Вы ждете от реформы суда присяжных?
— Расширения их подсудности, благо Президент наконец согласился на это. Но прописать это в законе мало, нужно еще и практику подтянуть. Сейчас есть множество манипуляций, к которым прибегают, чтобы не дать рассмотреть дело суду присяжных, например переквалификация с одной нормы на другую. Поэтому в перспективе суду присяжных нужно отдавать все дела о тяжких преступлениях. Но пока лучше следовать одному мудрому афоризму Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, которого я очень люблю: «Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития».
--
Интервью взяли В.А. Багаев и В.Б. Румак